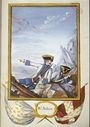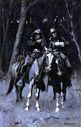Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| Kirill |
 9.6.2007, 8:21 9.6.2007, 8:21
Сообщение
#1
|
 Source owner    Группа: Администраторы Сообщений: 33 326 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 1 Город: Санкт-Петербург Военно-историческая группа (XIX): Л-Гв. Преображенский полк Военно-историческая группа (XVIII): Л-Гв. Преображенский полк, 1709 Репутация:  252 252  |
-------------------- Эй, радетель за счастье реконструкторское, а Гогеля когда разрешат? |
  |
Ответов
| konstantyn_lvk |
 14.6.2007, 23:11 14.6.2007, 23:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник    Группа: Консулы Сообщений: 12 158 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 11 320 Город: Санкт-Петербург Репутация:  75 75  |
Попытался вот навскидку пройтись по тем сюжетам, которые у Матвеева проходят по группе "отсутствие упомянутого в анекдоте документа". Курсивом - соответствующие цитаты из статьи.
«Теперь перейдем к случаям, когда не удалось подтвердить приводимый в анекдоте текст сохранившимся источником. Как мы уже говорили, может быть три причины подобного положения дел. Первая - отсутствие документа среди опубликованных источников. Хотя велика вероятность того, что источник первоначально существовал или существует и в наши дни. В качестве примера приведем широко известный анекдот о донесении А.В. Суворова П.А. Румянцеву по поводу взятия Туртукая. В.В. Рудаков приводит его в следующем варианте: «В 1773 году Суворов был отправлен под команду Румянцева для участия в турецкой войне. В первых числах мая он прибыл в Яссы, а 10 числа того же месяца доносил своему командиру о взятии Туртукая в следующем двустишии: "Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там"»28 Среди опубликованных документов это донесение не приводится. Существует очень похожая записка А.В. Суворова И.П. Салтыкову от 10 мая 1773 г. о победе над турками под Туртукаем: "Ваше сиятельство! мы победили. Слава Богу, слава вам. А. Суворов"29. Однако B.C. Лопатин в книге "А.В. Суворов. Письма" указывает: "В литературе широко известен рассказ о донесении С[уворова] Румянцеву в стихах... Возможно, что такое донесение действительно было послано"30. Остается только предполагать, что Александр Васильевич все же "доносил своему командиру", и крылатое двустишие не потеряно безвозвратно для потомков.» Думается, что установить когда «в литературе» впервые всплыло это двустишие не так уж и сложно: если у Петрушевского уже есть, то смотрим Полевого, если у него есть, то у Фукса, если и тут имеется, то Левшина. Из текста Матвеева не ясно, есть ли оно в сборнике Потапова, в этом случае первая книга отпадает. Далее, следует принять во внимание несколько обстоятельств: 1) Суворов действительно баловался в молодости сочинительством. Однако касательно переписки, ни одно из приписываемых ему стихотворных посланий не признано безоговорочно подлинным, см. например про «я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» про Потемкина у Лопатина или «пудра не порох…» к Павлу I. 2) В начале кампании 1773 г. Суворов был всего лишь одним из многих генерал-майоров действующей армии, на дунайском театре еще ничем не выделился (Туртукай – первый успех), под начальством Румянцева состоял совсем недавно. Поэтому вероятие таких стихотворных вольностей крайне мало. 3) Известно, что отношение А.В. к П.А., до самых последних лет включительно, было чрезвычайно, подчеркнуто уважительным и, если так можно выразиться, «снизу вверх». Никакого сочетания сотрудничества и конфликтов, как с Потемкиным или Павлом, не было в помине. Румянцев вообще держал всех на расстоянии и никакая фамильярность (донесение в стихах есть таковая, пусть даже и в лучшем смысле) была невозможна. Исходя из всего этого я бы скорее предположил, что перед нами апокриф. «Приведем еще один пример, связанный с периодом войны против польских конфедератов 1769-1772 гг. «Когда Суворов представил о необходимости идти в Литву на Огинского, имевшего в пять раз сильнейшее войско, Веймарн строго запретил ему этот поход. "Скажите генералу, что, когда выпалили из пушки, Суворову не сидится на месте!" - отвечал он и немедленно велел выступать... Результатом этого движения и была Столовичская победа, завершившаяся почти полным уничтожением армии Огинского. Донося об этом Веймарну. Суворов писал: "Как солдат я заслуживаю наказание и отдаю вам свою шпагу. Как русский я исполнил свой долг, уничтожил силы конфедератов, которых мы не могли бы одолеть, когда бы дали им время соединиться"»31. Генерал Веймарн действительно обвинял Суворова в самовольном выступлении против Огинского из Люблина. Подтверждением тому может служить рапорт Суворова Веймарну от 18 октября 1771 г. с объяснением причин своих действий32. В нем полководцу пришлось доказывать их необходимость в сложившейся ситуации. Но приведенный в анекдоте текст нами не обнаружен среди опубликованных источников. Кроме упомянутого выше рапорта, существует реляция Суворова Веймарну от 12 сентября 1771 г. о победе при Столовичах33 и донесение Суворова Веймарну от 13 сентября 1771 г. о победе над М.-К. Огинским34, где так же нет текста, использованного Рудаковым в своем сборнике. Но все же источник мог существовать. В обычаях Александра Васильевича было отправление записки о той или иной победе своему начальнику, которая предваряла приход рапорта и реляции по данному же вопросу. Это прослеживается по документам Туртукайской операции и других сражений, в которых участвовал Суворов. В случае с победой при Столовичах такой записки среди опубликованных источников нет. а именно в ней мог содержаться упомянутый в анекдоте текст.» Здесь хотелось бы заметить, что «отправление записки о той или иной победе своему начальнику, которая предваряла приход рапорта и реляции по данному же вопросу» было не в обычаях А.В., а нормой того времени – короткое извещение о результате, итоговые же документы требовали определенного времени на подготовку, часто их было несколько. Но сам бой при Столовичах состоялся 12 сентября и суворовская реляция датирована тем же числом. Так что отсутствие «такой записки» в данном случае не аргумент, вместо нее - реляция. Далее, нет и конкретной ссылки на тот самый «строгий запрет» Веймарна. Иван Иванович обладал достаточно тяжелым характером, но одно дело – просто объяснять ему причины своих действий, и совсем другое – выражения вроде «заслуживаю наказание», «отдаю шпагу». И снова, ни чин, ни должность, ни положение, ни заслуги еще не позволяли Суворову 1771 г. общаться с непосредственным начальником подобным образом. Так, в отношении эстляндца И.И. Веймарна «как русский я исполнил свой долг» звучит минимум вызывающе. Поэтому доказательств того, что перед нами опять-таки не апокриф, не вижу, а вот сомнения есть. «Теперь рассмотрим случай, когда невозможно установить источник но причине отсутствия в тексте анекдота ссылки на хронологические рамки описываемого события или, когда не обозначен адресат. Пример отсутствия датировки цитируемого документа: «При Екатерине между военнослужащими вошло в обычай ходить с палками. Суворову это не нравилось, и он отдал приказ, чтобы "младший к старшему не смел являться с палкою, а старший никогда не имел бы оной в руках". В силу такого распоряжения ношение палок, конечно, прекратилось35». В данном случае хронологические рамки слишком широки - "при Екатерине". В этот период (28.VI.1762 - 6.XI.1796) Суворовым было издано огромное количество распоряжений. Только опубликованные документы этого отрезка времени занимают почти три тома из четырехтомного издания, привлеченного автором данной работы. Кроме того, просмотр приказов, включенных в упомянутое издание, также ничего не дал.» Здесь я бы наверное уточнил, что под «палкой» имеется ввиду вошедшая тогда в штатскую моду трость, ношение которой офицерами предусмотрено не было. О достоверности тут сказать и вовсе ничего нельзя, кроме того, что любой воинский начальник екатерининской армии от полковника и выше мог издать подчиненным приказ такого свойства. Или обратного, чтобы все были с тростями. «Примером отсутствия адресата служит следующий анекдот, приведенный Рудаковым в главе своего сборника "Некоторые черты для характеристики Суворова": «По окончании дел в Варшаве, Суворов в начале 1795 г. отправился в Петербург и во время приема у императрицы, был между прочим, спрошен ею: - Все ли, Александр Васильевич, по заслугам награждены? Не остался ли кто из достойных? - Виноват, матушка-государыня! Прости меня! Виноват! Просмотрел! Позабыл одного молодого храброго майора. Виноват; прости мне, всемилостивейшая государыня!.. Да он. матушка, и сам-то не прав, - прибавил при этом Суворов, - самохвал! - Тут он рассказал о его самохвальстве и еще раз похвалил за храбрость. - Вина ваша, Александр Васильевич, не велика. - с улыбкою сказала Екатерина; - он наказан за дело, надобно же и наградить его за дело. Садитесь же и напишите ему достойную награду. Суворов тут же сел и написал письмо, которое вполне одобрила императрица и велела немедленно отправить, к великому удовольствию графа, искренне благодарившего ее за милость к майору. Живя среди лишений и невзгод, последний вдруг, совершенно неожиданно для себя, получает большой пакет, распечатывает его и находит два орденских креста, патент на его имя, рескрипт, подписанный императрицею Екатериною II, и следующее письмо Суворова: "Господин бригадир! Ее Императорское Величество из представлений моих, усматривая оказанные вами подвиги. Всемилостевейше соизволила вам пожаловать: За Кобылку и Брест Владимирский и Георгиевский крест: За Прагу Золотую шпагу; ЗаТульчин Бригадирский чин; За вашу храбрость и терпение Четыреста душ в вознаграждение. А. Суворов" Обрадованный до крайней степени новый бригадир снова вступил в военную службу и совершенно оставил привычку самохвальства»36. Как мы видим, в анекдоте не названо ни имени, ни фамилии "счастливого" бригадира. Не указано даже место его проживания. Кроме того, сам документ, вероятно, отложился в архиве "счастливчика", и если и дожил до наших дней, то до сих нор не опубликован. Таким образом, проверка достоверности анекдота невозможна.» Во всяком случае, проверка степени достоверности анекдота представляется возможной. Суворов выехал из Варшавы 17 ноября 1795 г., а 4 декабря присутствовал на торжественном обеде в Зимнем. А если мне не изменяет память, то в марте 1796 г. был уже при своей армии на Украине, где его и застало известие о кончине Екатерины. Следовательно, указанное событие могло иметь место лишь во время этого пребывания А.В. в столице. Установление лица, получившего в 1796 г. одновременно чин бригадира, высокие ордена Св. Владимира и Св. Георгия, золотое оружие, участвовавшего в войне 1794 г., при этом сразу после нее вышедшего в отставку и в том году вновь вступившего в службу, вполне возможно и по издававшимся ежегодно спискам. Но вот Тульчин среди «подвигов бригадира» - анахронизм, ведь так называлось селение, где находился штаб Суворова именно в 1796-1797 гг. Также слабо верится в производство отставного сразу через два чина, да и в такой «букет» наград, ибо скажем золотого оружия во все царствование Екатерины было выдано лишь 250 единиц, а чинам ниже генеральского их стали вручать лишь с 1788 г., каждый раз с описанием причин награждения. Следовательно, и здесь вероятие происшествия я бы оценил как весьма низкое, а анекдот - как позднейшее сочинение. -------------------- |
Сообщений в этой теме
 Kirill Матвеев М.Ю. Источники анекдотов об А.В. Суворове и вопросы их исторической достоверности 9.6.2007, 8:21
Kirill Матвеев М.Ю. Источники анекдотов об А.В. Суворове и вопросы их исторической достоверности 9.6.2007, 8:21
 mikv1 Работа очень интересна и искренне жаль, что автор ... 10.6.2007, 0:47
mikv1 Работа очень интересна и искренне жаль, что автор ... 10.6.2007, 0:47
 konstantyn_lvk Да, печально, что автор ушел навсегда, не завершив... 10.6.2007, 15:33
konstantyn_lvk Да, печально, что автор ушел навсегда, не завершив... 10.6.2007, 15:33
 mikv1 Относительно достоверности анекдотов хотел бы обго... 10.6.2007, 19:34
mikv1 Относительно достоверности анекдотов хотел бы обго... 10.6.2007, 19:34
 konstantyn_lvk По терминологии и бытованию анекдота полностью сог... 13.6.2007, 8:09
konstantyn_lvk По терминологии и бытованию анекдота полностью сог... 13.6.2007, 8:09

 mikv1
Существует несколько описаний того, как А.В. пита... 13.6.2007, 15:39
mikv1
Существует несколько описаний того, как А.В. пита... 13.6.2007, 15:39

 konstantyn_lvk
[quote name='konstantyn_lvk' post='26715' date='1... 14.6.2007, 0:12
konstantyn_lvk
[quote name='konstantyn_lvk' post='26715' date='1... 14.6.2007, 0:12

 mikv1 По поводу Рычкова - Суворов у него даже какое-то в... 14.6.2007, 4:25
mikv1 По поводу Рычкова - Суворов у него даже какое-то в... 14.6.2007, 4:25

 konstantyn_lvk
По поводу Рычкова - Суворов у него даже какое-то ... 14.6.2007, 14:50
konstantyn_lvk
По поводу Рычкова - Суворов у него даже какое-то ... 14.6.2007, 14:50

 mikv1
А точно ли у Д.Б. Мертваго? Сегодня посмотрел по ... 14.6.2007, 16:52
mikv1
А точно ли у Д.Б. Мертваго? Сегодня посмотрел по ... 14.6.2007, 16:52
 Др. Александр О мундирах Суворова. Востанавливается его наряд 17... 13.6.2007, 10:31
Др. Александр О мундирах Суворова. Востанавливается его наряд 17... 13.6.2007, 10:31
 konstantyn_lvk
Вот как раз думается, что именно этот последний м... 14.6.2007, 15:10
konstantyn_lvk
Вот как раз думается, что именно этот последний м... 14.6.2007, 15:10
 mikv1 По поводу Туртукая - наткнулся случайно на заметку... 15.6.2007, 5:11
mikv1 По поводу Туртукая - наткнулся случайно на заметку... 15.6.2007, 5:11
 konstantyn_lvk Именно! Об этом же Петров пишет и в пятитомник... 16.6.2007, 14:29
konstantyn_lvk Именно! Об этом же Петров пишет и в пятитомник... 16.6.2007, 14:29  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
 |
|||||

|
Текстовая версия |
|
Сейчас: 7.10.2025, 15:43 | ||